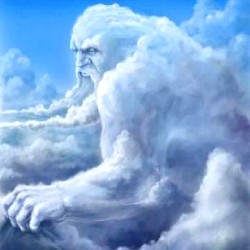
Злые ветры
Повесть
1
Пожилой неказистый Михлевич заткнул за пояс других мужчин — молодых, красивых, состоятельных, а некоторых даже знаменитых. Этот учитель математики из белорусского города Борисов поразил всех, кто знал Ольгу, самую красивую медсестру в латышском санатории Лиепая: Фёдор Михлевич на ней женился.
Вся здравница принялась гадать, как кособокий хромой старикашка ниже Ольги на целую голову, старше на двадцать четыре года, как он сумел охмурить красавицу, у которой было много поклонников среди пациентов санатория. Среди них был даже Олег Якименко, известный кинорежиссёр. Его короткий роман с Ольгой на время затмил все другие события, происходившие в санатории.
Всем, кто пытался понять случившееся, приходило в голову в первую очередь: у Ольги был восьмилетний сын. Мужчин вскоре после войны было заметно меньше, чем женщин, и зачем при обилии слабого пола брать себе в жёны разведённую, да ещё и с чужим ребёнком. Другое общее предположение: Ольга польстилась на богатство, но было ли так, попробуй проверь.
Вот как было на самом деле. Утром, начав своё дежурство, Ольга заметила в палате нового пациента, пожилого невзрачного мужчину. Увидев её, он так оживился, что рот его, расплывшийся в улыбке, забрался под гитлеровские усики, те в свою очередь сунулись в ноздри, и он, добавляя японский поклон, два раза громко чихнул.
Ольга невольно рассмеялась, а на диво вежливый пациент всё с той же, улыбочкой начал рассказывать о том, что «приехал из Белоруссии, недавно жену похоронил, начало сердце барахлить, достал путёвку в ваш санаторий и вот, приехал к вам подлечиться».
Пожилой пациент проявлял к Ольге несколько назойливое внимание. Он появлялся перед ней с букетом цветов или конфетами, или с ширпотребными безделушками, какие можно всегда увидеть в любом магазине подарков. Ольге скорее бы пригодились какие-то вещи из одежды, либо полезное что для кухни, но она от всего недолго отказывалась, цветы и безделушки ставила на полки, а кое-что фантазия сына переделывала в игрушки.
Как-то, когда сын повзрослел, Ольга решила ему объяснить, почему она вышла за Михлевича.
— Я была симпатичной, всегда весёлой, за мной много мужчин ухаживало. Но всем им я нравилась, как женщина, а не как разведённая с ребёнком. Проведав о сыне, мужики продолжали за мной ухаживать, но серьёзные намерения отметали. Как только я это понимала, я отворачивалась от них, пусть с сожалением, ну и что? Ты был дороже всего на свете…
Такое течение маминой мысли (я сына люблю, но он был помехой) вызывало у сына чувство вины (вот если б не я, судьба моей мамы сложилась бы много лучше).
И вот этот учитель математики, занесённый злым ветром на курорт, на каждом сеансе терапии рассказывал Ольге про дом в Белоруссии, про свои денежные накопления, про большой огород, кур и свиней. Ольга, родившись в крестьянской семье, любила животных и растения, порой скучала по этой жизни, и потому с любопытством слушала этого старого ловеласа. Но ей и в голову не приходило интимное сближение с человеком намного старше её, некрасивым и на голову ниже ростом. Но этот сладенький старый учитель продолжал волочиться за Ольгой и даже начал за ней шпионить.
Во-первых, он обратил внимание на то, что у Ольги проблемы с ногами. Она, казалось, без всякой причины иногда оступалась во время ходьбы. В такие неловкие моменты по лицу её проскальзывала тень, на которую немедленно ложилась насмешливая улыбка, означавшая «вот я какая неловкая». Из разговоров с другими медсёстрами Михлевич вывел причину «неловкости». Кое-кто знал, что на финском фронте на колено Ольги обрушился ящик, набитый боеприпасами. А позже, на том же фронте, и потом, во время блокады у неё отморозились пальцы ног. С тех пор они теряли чувствительность, в колено, будто, вонзали иглу, от острой боли нога подламывалась, и Ольга, случалось, даже падала. Порой её ноги отекали, начинали побаливать по ночам, и она от того не высыпалась.
Кроме того, белорусский учитель заметил, как новый главный врач (только что сменивший предыдущего, любимого всем персоналом курорта), как он разговаривает с Ольгой, — недружелюбно, чуть не враждебно. Новый главврач был преклонного возраста, с далеко выступающей нижней челюстью, придающей ему агрессивный вид, жёстко обращавшийся с подчинёнными. Он быстро завёл себе любовницу, официантку из столовой, снял Ольгу с полставки диетсестры и отдал эту работу официантке.
Ольге и так не хватало денег, а тут потеря части зарплаты и дополнительных продуктов. Продукты, выдаваемые отдыхающим, по разным причинам не использовались, — ну, не выбрасывать же их. Ольга пыталась объяснить, что она в качестве диетсестры работала давно и хорошо, и что, потеряв часть своей зарплаты… Главврач оборвал её грубовато, сказал, что ему решать, как и что, а ей вполне достаточно дежурств в водолечебнице и в палатах.
Принял Михлевич во внимание и то, что Ольга как-то сказала, что она боялась ходить по городу из-за вражды латышей к русским. Она в самом деле серьёзно подумывала покинуть враждебную республику, где страшно за сына и за себя. Пронюхал учитель даже и то, что Ольга почти одновременно лишилась поддержки двух лучших подруг. Татьяна, соблазнившая её переехать из Ленинграда в Латвию, снова вернулась в Ленинград, а Валя по горло была занята только что родившимся ребёнком и стала подрабатывать на дому пошивом всего, что ей заказывали.
Каморка, предоставленная санаторием, была очень тесной и холодной, с дровяной дымившейся печкой, от которой, как вьюшкой не крути, можно было насмерть угореть. И ещё раздражала казённая мебель, за использование которой у Ольги вычитали из зарплаты. Бывший главврач посоветовал Ольге встать в очередь на квартиру, и она несколько лет надеялась на то, что очередь подойдёт, но из бесед с другими сотрудниками уяснила себе, что, ей, как русской, квартира ещё долго не достанется, и, возможно, не достанется никогда.
Итак, Михлевич, сложив воедино все эти проблемы в Ольгиной жизни, пригласил её в ресторан и осмелился сделать предложение. Он сознавал, что они, как пара, ни внешне, ни по возрасту не сочетались, и благоразумно не надеялся на немедленное согласие. Но житейский опыт ему подсказывал, что, если в почву бросить зерно, оно может начать расти, следует только подождать. Зерно действительно стало расти, и после мучительных раздумий Ольга согласилась на «безумный шаг» (так она впоследствии называла бракосочетание с Михлевичем).
Решиться на это её спровоцировало и следующее размышление: «Если я скоро не выйду замуж, а серьёзно заболею и умру, мой сын останется сиротой. А так, Михлевич его вырастит. Или он сам отдаст Богу душу, тогда у них с сыном будет свой дом. То есть, — успокаивала себя Ольга, — не так уж глупо я поступаю, у меня в голове есть и здравые мысли».
2
И вот Ольга с сыном оказались на окраине города Борисов. Ещё в Латвии Ольга спросила, чем примечателен этот город, Михлевич тогда хитро улыбнулся, тут же нашарил глазами мужчину, дымящего папироской, и попросил у него спички.
— Что там написано, прочитай, — сказал он, протягивая коробок.
— Борисов. Спичечная фабрика им. С. М. Кирова, — послушно прочитала Ольга.
— Видишь, — сказал Михлевич с гордостью, как будто он тоже работник фабрики. — Снабжаем спичками всю страну. Но это не всё, у нас много чего. Приедешь, сама увидишь.
Насчёт дома Михлевич не врал. Дом был просторный, с двумя сараями. В одном из сараев две дюжины кур под надзором агрессивного петуха, в другом откармливались две свиньи, одна ещё в возрасте поросёнка, а другая огромная хрюшка, на которую время точить ножи. Большой огород, десяток деревьев — вишнёвые, яблони и груши. На всём этом можно было прожить. Докупить только соли, хлеба, спичек, масла, и чего-то редко нужного, и вот вам натуральное хозяйство, независимое от магазинов.
А вот денежных накоплений у Михлевича не оказалось. Свои небольшие сбережения учитель потратил на курорт и на то, чтобы Ольге пустить пыль в глаза ресторанами, подарками и цветами. Правда, во многих местах дома (в буфете, в комоде, в кладовке, на стенах) Ольга увидела много вещей, на вид вычурных и дорогих, с маркировкой на немецком языке. Михлевич неохотно объяснил, что вещи эти вывезены из Германии советскими фронтовиками, и он купил их выгодно на толкучках. Среди этих немецких вещей были сервизы немецкого фарфора, ковры, серебряные ложки, губная гармошка «Милитар Музик», бритва «Золинген», отличная швейная машинка «Зингер», зажигалка, часы «Селза».
Михлевич подталкивал Ольгу к свадьбе, но она её всячески оттягивала. Жениху объясняла это тем, что хочет к нему, якобы, присмотреться. Михлевича это раздражало, но он замазывал недовольство фиговой сладенькой улыбочкой. Чем дольше она жила с Михлевичем, тем глубже ощущала неприязнь к его карликовому росту, беззубому рту, кособокому плечу, влажной от пота голове и неприятному запаху тела. «Почему я была такая дура, согласившись на брак с таким человеком?» — думала Ольга, но понимала, что деваться ей было некуда. Назад, на работу на курорте, главврач её не захочет взять. А значит, и жить ей там будет негде. Да и зачем возвращаться туда, где ей было страшно ходить по улицам. Снова переехать в Ленинград и там скитаться по частным квартирам? Перед спонтанным отъездом в Латвию она, похоже, сделала глупость, отдав сёстрам свою комнату и тем потеряв прописку в городе.
И как она замужество не оттягивала, Михлевич так на неё надавил ежедневными просьбами, увещеваниями, порой даже мольбами со слезами, что Ольга сдалась, и они пошли в загс. От свадьбы с гостями она отказалась, хотя он очень хотел пригласить учителей из его школы и каких-то старых знакомых. Он явно хотел перед ними похвастаться молодой красивой женой, но Ольге хвастаться было нечем, она отказалась от гостей, и они втроём пошли в ресторан отметить второе бракосочетание.
Для Ольги событие было не радостным, а для Михлевича — наоборот. Он, как планировал, обзавёлся не только женщиной для постели, но и трудолюбивой хозяйкой. Работы по дому было много. Огород, куры, свиньи, уборка, приготовление еды. Часто приезжали погостить дочка Михлевича и его внуки. Дочка Лидка была лентяйкой, внуки тоже не помогали, и пока они валяли дурака, Ольга одна на всех готовила, мыла посуду, убиралась. К этому надо добавить работу по выкармливанию свиней. А после того, как хрюшку зарезали, немало времени было потрачено на засаливание сала и изготовление сарделек с мясом, специями и чесноком. Ни в чём том участия не принимая, Лидка таскалась в сарай за салом, добавляла в сумки свиные сардельки, увозила это на рынок, а деньгами с продажи не делилась. Ольгу бесило её поведение, она жаловалась супругу, но тот свою дочку защищал.
Юрка, старше сына на два года, часто с ним задирался, дразнил его, толкал, как бы нечаянно. Однажды мальчики шли по улице, Юрка подставил сыну подножку. Тот удержался на ногах, ударил забияку по животу и тот камнем упал на землю. Эффект от удара в поддыхало поразил самого сына и всех, оказавшихся свидетелями. В числе их были соседские дети, гонявшие мячик на дороге. Юрка, схватившись за живот, минуты две корчился на земле, как полураздавленное насекомое. Мать его выскочила из дома, бросилась к сыну, узнала, в чём дело, замахнулась на сына, но тот отскочил. Ольга всё видела из окна, заорала на Лидку:
— Не смей его трогать! — И тоже выбежала из дома.
На скандал между двумя матерями многие высунулись на улицу. Наблюдать скандал всегда интересно, если он тебя не касается. В тот вечер соседи не скучали, обсуждая, казалось бы, мелкую ссору двух не поладивших мальчиков, а Ольгин сын для соседских детей стал неприкасаемым героем. С тех пор к нему Юрка не приставал, да и мальчики много старше с уважением поглядывали на пацана, недавно приехавшего из Латвии и знавшего убойные приёмы. Вечером Ольга, чтоб Лидка слышала, громко сказала сыну:
— Молодец, сынок! С хулиганами так и надо.
С достопримечательностями Борисова Ольга так и не познакомилась. Только лишь вычитала из газеты о том, что город когда-то назвали имением полоцкого князя Бориса Всеславича и что поблизости Борисова случилось знаменитое сражение 1812 года с отступавшей из России армией Наполеона. За время, прожитое в Белоруссии, они пару раз сходили в кино, раз покупались в Березине (на которой разбили французов), а на другие развлечения, такие, как обещанные Михлевичем рестораны, театры и концерты не было ни времени, ни здоровья. Да и денег на то не хватало, ведь жить приходилось лишь на одну учительскую зарплату.
Чтобы пополнить семейный бюджет, вернуться к профессии и не жить только в хозяйственных заботах, Ольга съездила в поликлинику, чтобы устроиться медсестрой, ну хотя бы на полставки. Там как раз оказалась вакансия, но вернувшись домой и ещё раз подумав, Ольга отложила трудоустройство из-за навязчивых болей в ногах. От частых болезненных вспышек в колене нога её надламывалась всё чаще, Ольга теряла равновесие, и если ухватиться было не за что, обваливалась на землю. После неудачного падения рентген обнаружил трещину в кости, и руку пришлось заковать в гипс.
В это же время вновь прикатила надоедливая родня и так же решила сесть Ольге на шею, несмотря на её немощную руку. Скандалы между Лидией и Ольгой, часто с участием Михлевича, стали вспыхивать ежедневно. Однажды дочь обозвала Ольгу хищником и интриганкой, вступившей в брак ради имущества, которое должно достаться внукам. Взбешённая Ольга велела супругу немедленно выставить дочь из дома, и чтоб она больше не приезжала. Михлевич решительно отказался. Ольга ещё более решительно выставила ультиматум: если дочь утром не умотает, она уезжает в Ленинград и никогда уже не вернётся. И, подкрепляя своё решение, она пошла собирать чемоданы. Утром Михлевич нашёл такси и повёз своих «выродков» на вокзал. На прощание Лидка не забыла, высунув голову из машины, обозвать Ольгу плохими словами, на что Ольга не реагировала. Победители не машут кулаками, а усмехаются и торжествуют.
Память у Ольги была замечательной, но только не к языкам. Пожив в Латвии и в Белоруссии, она лишь несколько слов запомнила на латышском и белорусском. То ли не было у неё дара к изучению языков, то ли не было к ним интереса, то ли не было необходимости разговаривать не на русском. Она в Белорусии запомнила меньше десятка слов, с которыми сталкивалась частенько, с такими, как бульба (картошка), гумовики (резиновые сапоги), качка (утка), вячэра (ужин). В школе изучение белорусского было обязательным предметом, и сын ошарашивал мать выражениями, до того непонятными и забавными, что она, спросив перевод, хохотала: асёл маляваны (глупый человек), смачна есцi (приятного аппетита), што ты кигикаешь на мяне (что ты кричишь на меня).
Между домом и школой сына располагалась территория железнодорожного узла. Там вагоны сортировались на десятках железных путей. По приказам откуда-то свыше, вагоны катились туда и сюда, то сталкивались, то откатывались, то замирали неясно на сколько. Люди пытались пролезть очень быстро под неподвижные составы, но кое-кому, особенно пьяным, такое порой не удавалось. Вагоны вдруг сталкивались друг с другом, начинали быстро катиться, и человека давило насмерть, либо он становился калекой. Другой дороги до школы не было, и Ольга, за сына опасаясь, сначала решила его провожать. Но с её проблемной ногой перешагивать рельсы, ступать на гравий, крупный и зыбкий под ногами, было и трудно, и опасно. Она не раз там оступалась, оседала, садилась на рельсы, думала с ужасом: «Вот бы я грохнулась, да головой, и не дай бог об рельсы, что тогда будет с моим сыночком?» В результате пришлось ей согласиться с тем, что сын стал ходить в школу один или с хлопчыком-соседом.
Сын был доволен, что мать отступила. У него появилось развлечение дважды в день «рисковать жизнью», перескакивая полотно перед катившимся вагоном. А ещё можно было переждать, пока длинный поезд не остановится и, пока он опять не тронулся, быстро юркнуть между колёсами на другую сторону полотна. Также можно было высмотреть вагон, который катился не очень быстро, вскочить на площадку между вагонами и спрыгнуть с другой стороны поезда.
Через два года жизни в Белоруссии Ольга сказала: «Мне здесь надоело! Давай продавай дом». Михлевич и так, и сяк возражал, долго пыхтел, но Ольга настаивала, и он неохотно уступил.
Уехать-то можно, а куда? Набросилось множество вариантов. Один из них, для Михлевича лучший, — переехать в Великие Луки, где проживала его дочка, — мол, хочется быть поближе к внукам. Он так нахваливал этот город, что Ольга согласилась, но с условием: они будут жить далеко от Лидки, и чтобы она и её дети никогда в доме Ольги не появлялись. Такое условие не совсем устраивало Михлевича, но они сошлись на Великих Луках, и он стал продавать дом.
3
Ольга потребовала от Михлевича снять квартиру в Великих Луках ещё до того, как он продаст дом. Михлевич упорствовал на другом: нечего, мол, гнать лошадей, а лучше пожить у дочки недельку, проверить возможные варианты, и что-нибудь хорошее найдётся.
Пока он оттягивал поездку, нашёлся хороший покупатель. Михлевич поспешно оформил сделку, забыв с покупателем согласовать конкретный срок передачи собственности. А новый хозяин, приехав с контрактом, потыкал пальцами в мелкий шрифт и попросил убраться из дома в течение трёх суток. Иначе…, — сказал он угрожающе, обратившись из любезного человека в волка, оскалившего зубы.
Испугавшись слова «иначе», Михлевич помчался к железнодорожникам заказать два контейнера для вещей, потом отправился на вокзал купить три билета в Великие Луки. Работник на станции согласился доставить контейнеры для погрузки буквально на следующий день (пришлось хорошо доплатить за срочность), но их привезли лишь в день отъезда и всего за четыре часа до поезда, на который Михлевич купил билеты.
Возможно, в книге рекордов Гиннеса могла появиться семья Михлевича, если бы кто-то из них догадался отправить в Лондон уведомление о том, что они без помощи грузчиков за три часа запихнули в контейнеры всё содержимое своего дома, срочно набили чемоданы, дотряслись до вокзала на двух автобусах, добежали до тронувшегося вагона. Судя по цвету лица Михлевича, по беспримерно частому пульсу, по дыханию со свистами и хрипом, по тому, как ввалившись в плацкартный вагон, он, как подкошенный, рухнул на полку, — по всем эти признакам дама с косой почти дотянула до Михлевича свою костлявую руку. Но он изловчился её обхитрить: в одном из карманов его пиджака водились подъязычные таблетки валидола.
До переезда в Великие Луки Михлевич хвастливо рассказывал Ольге о том, что квартира у дочки просторная (там мальчики даже в футбол поигрывали), муж у дочери замечательный, не пьющий, с очень приличным заработком, внук — отличник и футболист, внучка — красавица, чудно пела и уже в семилетнем возрасте подавала надежды переплюнуть Кристалинскую и Ведищеву.
— А Лидка, дочка твоя, где работает? — как-то спросила Ольга.
— На заводе аккумуляторов, — ответил Михлевич и добавил: — Говорит, что её скоро повысят до заведующей отделом.
Квартира оказалась рядовой, стандартной двухкомнатной квартирой на таком этаже строения, что кто-то его называл первым, кто-то подвальным, а кто-то, чтоб было справедливо, называл полуподвальным. Муж Лидки в квартире не появился ни в первый день, ни во второй. Ольга спросила: а где муженёк? Михлевич сказал, что пока не знает, что тот, возможно, в командировке. Такое слабое объяснение Ольгу совершенно не устроило. Утром, когда Лидка и дети отправились работать и учиться, Ольга прошла по всем помещениям, зорко оглядывая все углы, приоткрывая шкафы и комоды, но нигде не сумела обнаружить ни единой мужской вещи.
— А муженёк-то твою Лидку бросил, — вывела Ольга заключение. — А как ещё, если стерва такая.
Михлевич на это не отвечал, а только натужно посопел. На третий день после приезда Ольга поцапалась с Лидкой на кухне, где было тесновато для двоих, да ещё между ними торчал Михлевич с острым ножом, ведром картошки и плохо сгибающейся ногой, повреждённой во время погрузки контейнеров, и о которую все спотыкались. После того, как локоть Лидки то ли нечаянно, то ли намеренно ткнулся об Ольгино бедро, она швырнула на пол кастрюлю, в которой пыталась готовить суп, и заявила, что с этой минуты её ноги на кухне не будет. Лидка в свою очередь проорала, что готовить на Ольгу не собирается, что «пусть та хавает где-то ещё».
Ольга отказалась от еды, которую Лидка приготовила, оставила мужа «жрать помои, какими я бы свиней не кормила», и ушла с сыном в столовую. Ольгу бесила не только Лидка, не только страшная теснота от барахла и немецкой мебели, перевезённой из Белоруссии, но и запах горящего торфа, распространившийся на весь город, похожий на запах горящего мусора, в котором смешано всё, что угодно. Посторонние люди ей объяснили, что не так далеко от Великих Лук горят торфяные болота, которые тушат, да всё не потушат. Ладно бы запах, можно стерпеть, но запах — это не только запах, это воздух, пропитанный гарью, раздражающей слизистые оболочки, вызывающей кашель и рдение глаз.
«Куда податься? — думала Ольга во время тяжёлых бессонных ночей, не давая спать себе и другим частыми приступами кашля. — Страна-то огромная, да что? Что выбрать, какое спокойное место, да чтобы Михлевича там не было?» От разговоров о переезде муж уклонялся разными присказками, типа «везде хорошо, где нас нету». Ольга в конце концов заявила, что, если они не уедут немедленно, она хоть завтра подаст на развод и укатит куда-угодно. Михлевич на это ухмыльнулся, поскольку считал, что у Ольги нет денег, а деньги от проданного дома он припрятал в надёжном месте.
Выбрать, куда им переехать, помогла женщина в кафетерии, оказавшаяся с Ольгой за одним столом. Затеяв с ней мелкий разговор, Ольга пожаловалась на запах от непрерывно горящего торфа, на то, как местный отравленный воздух негативно сказывается на здоровье. Женщина охотно отозвалась, сказав, что страдает таким же образом и тоже готова переехать туда, где намного лучше.
— Мне лично нравится город Уральск, — продолжила женщина после паузы. — Я там побывала в командировке. Город спокойный, небольшой, в нём роскошная архитектура ещё со времён царской России. Там сливаются две реки, Урал и Шагана, и потому всегда свежий воздух. Дешёвые овощи и фрукты. Красивые парки. И люди хорошие. Пусть даже казахи, но очень приветливые.
— Всё, — сказала Ольга Михлевичу, как только вернулась из столовой. — Я уезжаю с сыном в Уральск. А ты с этой стервой оставайся.
Муж на «стерве» не застревал. Столько уж раз это слово слышал, что пропускал его мимо ушей. Понимая, что женщины не помирятся, даже готовы убить друг друга, он сам задумывался о вариантах, как ситуацию изменить. К тому же, хлебнув холостяцкой жизни после кончины своей супруги, он не хотел потерять и Ольгу.
Расспросив подробнее об Уральске, он согласился с таким вариантом, и началась подготовка к отъезду. Исходя из историй о пьяных грузчиках, (которые, возможно, породили устойчивый миф «один переезд равен трём пожарам»), Михлевич хотел обойтись без них, но белорусский опыт погрузки, обернувшийся вывернутым плечом и повреждением в колене, заставил Михлевича игнорировать легенды о пьяных грузчиках. Он отыскал в районе вокзала внешне опрятного мужика, грузного и, вероятно, сильного, и согласившегося явиться утром намеченного дня. Мужик оказался деловым, потребовав в виде аванса бутылку. Михлевич не стал противоречить, и сунул тому мужику пятёрку, не подумав о том, что на эту сумму можно купить и две бутылки.
Вещи, вывезенные из Белорусии, изрядно покалечились в процессе переноски, погрузки и разгрузки в не такой уж просторный Лидкин дом, поэтому кое-какую мебель пришлось распилить и выбросить в мусор. Само собой туда же отправилось многое сделанное из пластмассы, подпорченного фарфора и стекла. Поскольку вещей стало много меньше, Михлевич решил заказать не два, а только один контейнер.
И вот пришёл день, самый волнительный для всех, кто куда-то перевозит своё накопленное хозяйство, — пришёл день впихивания барахла в металлическую коробку с непредсказуемым пространством. Грузчик, с которым договорились, явился с некоторым опозданием и оказался в плохой форме. Перед тем, как к работе приступить, он потребовал опохмела в виде бутылки или наличных. Михлевич резонно не согласился, за что был подвергнут оскорблениям. Ольга, более сообразительная, но ещё недостаточно опытная в обращении с простонародьем, принесла из дома портвейн. Мужик горячо благодарил, тут же, из горлышка, без передышки осушил бутылку до дна, отдышался, пробормотал, что ему нужно несколько минут, чтобы «лекарство начало действовать», куда-то ушёл и не вернулся. Таким образом, вся работа снова легла на плечи семьи. Лидка в тот день не хотела быть дома, но, поразмыслив, решила остаться, — не помогать, а следить за вещами.
Контейнер в кузове грузовика и груда вещей перед подъездом создали нездоровый интерес у бабок, рассевшихся у подъезда, у всех, кто отправился на работу, в магазин, подышать воздухом, не успевшим как следует пропитаться ароматом горящего торфа. Не забывали остановиться и поглазеть на процесс погрузки и просто случайные прохожие, прибежало и несколько собак с надеждой что-нибудь перехватить.
— Как они смогут туда всё засунуть? — сомневался прилично одетый мужчина. Он опаздывал на работу, но не каждый же день какой-то дурак пытается сделать невозможное.
— Никак не уместится, — захохотала, стрельнув глазками на мужчину, барышня с наклеенными ресницами и с пустым молочным бидоном.
Но самое большое удовольствие получали старушки на скамейках, которым пару недель назад повезло лицезреть, как семья Михлевича разгружала то же самое имущество.
— Лидка-то наша, — плясал рот старушки, не устававший быстро двигаться, — с жинкой папаши не ужилась. Слыхал кто, как обе так орали, будто убить друг дружку старались? Я была на лестничной клетке, так даже там затыкала уши.
— Как же ты слышала с лестничной клетки? Ты же глухая, чего ты врёшь, — возразила старушка, любившая выловить какую-нибудь неточность. Иначе, она боролась за правду и тем пользовалась репутацией бабы со змеиным языком.
— Сама ты глухая и перетухшая. А если ты слышишь не хуже собаки, то на втором этаже ты глухая к тому, что делается на первом.
— Ладно вам, девочки, — вмешалась рассудительная старушка, всегда примирявшая собеседниц. — Ты лучше, Мария, расскажи, чего они там орали.
— Орали, и всё тут. А что орали, разве я могла разобрать. К самой двери почти подошла, и только одно поняла по звуку — ненавидят они друг дружку.
— Ну, конечно. И так понятно, почему Лидка её ненавидит. Выскочила замуж за богача, чтоб его деньги ободрать. Какой дочке такое понравится?
— Какой он богач! Ты чего, сдурела? У него только домик в Белоруси, свинья, да ещё десять кур с петухом. И то он всю живность свою прирезал. Какое же это богатство?
— А деньги с продажи? Что ль не богатство?
— Какие там деньги? Дом-то в глуши. Я о Борисове даже не слышала. Там, Лидка рассказывала, как в деревне. У нас на те деньги ничто не купишь.
Михлевич и так был весь на нервах, был потный и красный, как рак варёный, а тут ещё бабки с разговором о его финансовом несовершенстве. Старушки, правда, не ошибались в том, что на деньги из Белоруссии он мог бы купить в Великих Луках лишь завалящую халупу где-нибудь на окраинах. Он уже это успел проверить с помощью агента по недвижимости. Так что не только угрозы Ольги подать на развод и уехать из города, но и цены на местные дома склонили его не возражать против захолустного Уральска, где дома уж точно должны быть дешевле.
Михлевич сначала стал загружать громоздкую мебель из Германии. Мебель была тяжёлой и крепкой, с разными вычурными завитушками. Немецкие умельцы не рассчитывали на то, что продукт попадёт в Россию, иначе они такую мебель производили бы из железа. А дерево — что, пусть даже дуб, невольно оказавшийся в СССР, — не справилось с русской транспортировкой, и часть завитушек отвалилась уже при погрузке в Белоруссии, остальные продолжали отпадать в городе Российской Федерации.
После мебели запихали коробки, старые чемоданы, узлы, тазы, отдельные вещи. Забив контейнер почти до отказа, Михлевич с ужасом обнаружил, что забыл про большой обеденный стол. Он не попался ему на глаза, поскольку пара резвых зевак перетащили стол в сторонку, «чтоб не торчал посреди прохода». Пространство, оставшееся в контейнере, даже не требовало замера, чтобы Михлевич осознал, что со столом придётся расстаться. «Либо…— задумался Михлевич, — а что если стол разобрать по частям?» Он попыхтел с молотком и отвёртками, но хитрые немцы так всё приладили, что чёрт бы не понял, каким образом.
Группа зевак забросала Михлевича многочисленными советами, в основном бесполезными и издевательскими. Особенно всех возбудил топор, с помощью которого Михлевич, как неопытный дровосек, стал отрубать ножки стола. Вместе с супругой он попытался взвалить искалеченный стол в контейнер. Пара зевак подскочили помочь, но они так неловко за всё схватились, что многопудовая махина рухнула на землю и раскололась.
Михлевич, очевидно, потерявший последние крупицы здравомыслия, пытался упрятать в забитый контейнер никуда уже не годные куски, но забросил эту идею под влиянием гадких шуток зевак и хихиканья бабок на скамейках. А Ольга, сгорающая от бешенства и от стыда перед народом, осыпала мужа грубыми прозвищами и сказала, чтоб он не сходил с ума и оставил обломки стола в покое.
Едва лишь железная дверца контейнера с визгом и скрежетом захлопнулась, все зрители, кроме старух на скамейках, тут же, как будто, испарились. А бабки, — чего, им спешить было некуда, — продолжали сидеть и чесать языками даже когда грузовик с контейнером отъехал на несколько километров.
4
К мнению людей о поселениях, в которых они побывали коротко, лучше относиться с недоверием. Кому-то, впервые попавшему в город, о котором он раньше и не слыхал, вдруг повезёт влюбиться в кого-то. Он скоро уедет, но всю свою жизнь будет тот город всем расхваливать. А на кого-то там выльют помои в виде грязного оскорбления, — будет ли он вспоминать город с нежностью?
Выйдя из поезда на платформу казахского города Уральск, семья словно попала в баню. Под жестоко палящим солнцем они покрутились у вокзала, пытаясь поймать такси до гостиницы, но, узнав, что она недалеко, решили сдать три чемодана и добраться туда пешком. Вокзальная камера хранения, как им сказал работник в майке, наполовину промокшей от пота, была переполнена до отказа, но Ольга, перегнувшись через окошко, разглядела, что дальние полки были заполнены наполовину. Работник, обдав Ольгу крепким запахом, оттолкнул её мокрой рукой и упёрся в том, что сказал до этого. Пришлось ему заплатить лишнее, чтобы он обнаружил место ещё для трёх чемоданов.
С вещами, оставшимися на руках, они кое-как доплелись до гостиницы, но все номера оказались занятыми «ввиду наплыва командировочных». Поэтому весь остаток дня и первую ночь в незнакомом городе пришлось кое-как провести на вокзале.
Утром, оставив Михлевича с сыном, Ольга отправилась на базар и там довольно быстро договорилась о съёме жилья на несколько дней.
— Будешь довольна, — сказала торговка, продававшая абрикосы. — У меня по шесть человек спали. А вас всего трое, говоришь? Сразу скажу, скрывать не буду: у времянки крыша плохая. Но ты на потолок-то не гляди. Дождей, говорят, долго не будет.
— Далеко ли живёшь? — спросила Ольга. — Оглядеть бы хотела твою времянку.
— Пять минут. Записывай адрес.
После вокзала жилище торговки показалось вполне сносным. Две кровати, стол, табуретки, комод, этажерка, умывальник. Потолок был в разводах, облупился, но, вроде, с него ничего не сыпалось.
Днём они спасались от жары в щедрой тени двухсотлетних дубов в центральном парке культуры и отдыха, или ехали в Ханскую рощу, у слияния Урала и Шагана, где от воды было прохладней. В тени деревьев сидели казахи в плотных халатах и тюбетейках и попивали горячий чай. «Как они могут, — дивилась Ольга, — тепло одеваться в такую жару, да прихлёбывать что-то горячее?»
Опять начались боли в ногах, отчего Ольга не высыпалась. Не желая трудить больные ноги, она много времени проводила в недалёкой библиотеке. Там работали вентиляторы, было не так жарко и душно, как во времянке в течение дня.
Похоже, в штате библиотеки числилась только одна женщина. Это была пожилая казашка, скупая на слово, педантичная, резко обрывавшая разговоры, плач младенцев, шумных детей, поднимавшая голову даже на шёпот. Одета она была несколько странно, — в поблёклую гимнастёрку с приколотыми орденскими планками и в чёрную юбку почти до пола. Ольге она совсем не понравилась. Раздражала её и гимнастёрка, которая, как Ольге казалось, не увязывалась с атмосферой культурного заведения. А после того, как библиотекарша сделала Ольге замечание по поводу тихой беседы с соседкой, Ольга казашку возненавидела.
Она, тем не менее, к ней подошла.
— Вы не могли бы мне посоветовать, — спросила Ольга холуйским голосом, — куда мне следует обратиться по вопросу аренды квартиры.
Вопрос, совершенно не относившийся к библиотечной сфере жизни сузил узкие глазки казашки до того, что они показались закрытыми.
— Здесь вам не справочный стол, гражданка, — сухо ответила она.
— А вы не хамите, — сказала Ольга и оскорблённо отвернулась
Однажды, явившись в библиотеку, она на месте суровой казашки увидела русского мужчину, молодого, приветливого, разговорчивого, и пытавшего услужить любому посетителю библиотеки. Он внимания не обращал на то, что терпеть не могла казашка, сам громко разговаривал с посетителями. Ольга приблизилась к нему.
— Как же приятно видеть здесь такого вежливого человека! — сказала она, тепло улыбаясь. — До вас здесь сидела старая ведьма. Надеюсь, её выгнали с работы?
Молодой человек захохотал. Кто-то взглянул на него с любопытством, серьёзные люди — с неудовольствием.
— Ведьма? Да что вы, какая ведьма? Она заслуженная работница. На городской доске почёта. Фронтовичка. Она заболела. Отдел культуры горисполкома попросил меня её заместить. А другая библиотекарша оказалась в декретном отпуске.
— Очень жалко, — сказала Ольга. — Таких хамок, пусть даже заслуженных, с медалями и орденами, нельзя держать на культурной работе. Из неё будет хороший дворник — гонять из подъездов мужиков, которые водку распивают, да там же справляют свою нужду. И какой от неё толк, если с ней даже нельзя посоветоваться.
— Я к вашим услугам. Чем вам помочь? О чём вы хотели посоветоваться? — спросил молодой человек, улыбаясь.
Все не прочь получить совет, особенно полезный и бесплатный, поэтому на Ольгу с библиотекарем повернулось много голов.
— Вы очень любезный человек, и я буду с вами откровенной. Я только что приехала в Уральск, чтобы устроить здесь свою жизнь. Мне город ваш очень похвалили, а мне почему-то здесь не нравится. Может, вы скажете, что здесь особенного?
Слегка растерянный странным вопросом, библиотекарь посерьёзнел:
— Вам, может, жара наша не понравилась? Но это не типичная жара. Здесь сорок случается очень редко. Обычно не больше тридцати. А что касается особенного… — Он подумал и продолжал. — Ну, например, мы здесь находимся как раз между Азией и Европой. Говорят, если прыгнуть в реку Урал на азиатской стороне, переплыть на другой берег, то ты оказываешься в Европе. Правда, никто точно не знает, где точная граница пролегает. Она, может, там, где вы стоите. Если расставите свои ноги, одна нога будет в Европе, а другая нога — в Азии.
— Что? — засмеялась Ольга. — Прямо здесь можно ноги расставить?
— Границу между материками с абсолютной точностью не замеришь. Об этом учёные всё ещё спорят… — Библиотекарь помолчал. — Ещё, если вам это интересно, в Урале Чапаев утонул.
— Рядом с этим городом утонул?
— Утонул рядом с селом «Чапаев», километров за сто тридцать от нас.
— Вот это да! — воскликнула Ольга. — Как же это его угораздило утонуть рядом с селом, которое носит его фамилию?
— Да нет, до того, как он утонул, посёлок по-другому назывался. Сейчас там музей, посвящённый Чапаеву. Можете съездить посмотреть.
Тут библиотекаря отвлекла женщина, просрочившая книгу и не желавшая заплатить за месячную задержку. Ольга немного потерпела медленно раскручивавшийся спор, отошла от стола библиотекаря и справедливо пришла к выводу о том, что жить меж континентами и гордиться историй о Чапаеве ей будет не так уж интересно.
Она вернулась за свой стол, стянула с полки первый журнал, стала его скучно перелистывать, задержала внимание на фотографиях, отображавших людный пляж на берегу Чёрного моря, бухту с кораблями, лиман с улыбавшимися женщинами, перемазанными чёрным илом, детей, собирающих виноград, несколько военных мемориалов. Что-то толкнуло её прочитать небольшую статью меж фотографиями, и она поняла, куда надо ехать — в город-герой Новороссийск.
Михлевич был до того растерян и так плохо соображал, что был не в состоянии оспаривать твёрдое Ольгино решение немедленно ехать в Новороссийск. А сын, которого записали в третий класс школы Уральска, был доволен, что не придётся учить казахский язык, ещё один лишний язык после латышского и белорусского.
Несмотря на свою растерянность, Михлевич сумел договориться с местными железнодорожниками не разгружать контейнер в Уральске, а тут же переправить в Новороссийск с пометкой «До востребования» вместо адреса. Внешне, как будто, дело простое, но потребовало разговоров с разного уровня начальством, запутанной бумажной волокиты, а также терпения снести вопросы, подобные такому: «каким это местом вы думали раньше?»
5
Поезд привёз их в Новороссийск в августе 1955-го. Был тёплый вечер, после шести. Где провести первую ночь? Михлевич вновь, как и в Уральске, собрался ехать с вокзала в гостиницу. Ольга вспылила:
— Ты очумел! Это же лето и южный город. И жаба, и жук сюда прикатили. Нас из гостиницы — пинками, как сумасшедших или пьяниц. Некуда ехать. Чужой город. Ночуем на скамейках на вокзале.
Утром, после бессонной ночи Ольга оставила сына с Михлевичем в душноватом зале вокзала и вышла наружу найти автобус, который довёз бы до базара. Солнце грело, почти ласкало, как бы доказывая Ольге, что они сделали правильный выбор, переехав в город у моря.
Базар был большой, многолюдный, шумный. Поражало обилие продуктов, особенно фруктов и овощей, а на толкучке продавали всё, что только душа пожелает. Но Ольга сконцентрировалась на жилье. Его предлагали и торгаши, и те, кто слонялся по базару, выискивая квартирантов, и разные сомнительные личности, очевидно, работавшие на комиссию. Цены на съём времянок и комнат прямо зависели от близости к морю и к центру города. Ольга взглянула на дело практично. Близость к морю была привлекательна, но зачем тратиться на жильё, которое потребуется на неделю, или на тот короткий срок, пока они подыскивают дом для постоянного проживания.
Ольга решила выбрать времянку, находившуюся на буграх (так назывались районы города, разбросанные по холмам). Хозяйка времянки, по внешнему виду из какой-то республики Закавказья, пыталась сдать не на неделю, а на месяц и даже дольше, но после не длительных переговоров смирилась с кислой рожей на неделю. Считая, что дело уже сделано, она пожелала забрать платёж, но Ольга разумно возразила:
— Я могу вам, голубушка, заплатить, но зачем вы меня дурой считаете? А вдруг у вас ничего нету. Деньги забрали, а я на бобах? Или мы к вам в гору дотащимся с тяжёлыми чемоданами, а у вас окажется просто сарай, в котором ещё и свинья похрюкивает?
— Какая свинья? Вы что, гражданочка? Вы меня за жулика принимаете? — возмутилась та, что пока находилась между владельцем времянки и жуликом.
— Да что вы, да как я могу так думать? — сказала Ольга, сообразив, что лучше не собачиться с человеком, у которого, может, придётся жить.
Оставив товар (разные овощи) под присмотром соседней торговки, они пошли к времянке пешком, поскольку автобус ходил на бугор, игнорируя расписание.
— Должен каждые сорок минут, а его можно ждать и час, и два, — говорила владелица времянки, часто останавливаясь и задыхаясь. — А то и вовсе совсем не приходит из-за поломки или чего-то. А пешком минут сорок, если вверх. А вниз — и за тридцать минут управишься.
Времянку слепили из самана, и пол был, как будто, земляной, внутри пахло глиной и чем-то ещё, напоминавшим запах навоза.
— Что вы нам пытаетесь всучить? Это ж африканская лачуга, — возмущённо сказала Ольга и выскочила наружу.
— Да в городе все времянки такие. Есть деревянные, конечно, но они загораются или гниют. Все приезжие так живут. И никто на саман не жалуется. И ещё, гражданочка, что я скажу. В мои саманные кирпичи в глину добавляли не солому, как делают многие другие, чтоб сэкономить, значит, денег. В саман мой примешивали полову, а чтоб кирпичи были покрепче, добавляли конский навоз.
Несмотря на старую боль, опять вспыхнувшую в колене после долгой ходьбы в гору, Ольга расхохоталась.
— Вы что, хотите, чтоб я заплатила за халупу, сделанную из говна?
Она решительно двинулась прочь от африканской вонючей лачуги, но не могла не остановиться, услышав сказанное хозяйкой.
— Сдам в полцены, если хотите.
— Другое дело, — сказала Ольга и оглядела времянку внимательней.
Количество мебели в двух комнатах вполне хватало на трёх человек. На потолке никаких подтёков. И пол из самана, не земляной. И запах, если привыкнуть, терпимый. Лучше уж запах от навоза, чем сырой запах от плесени, которая опасна для здоровья.
Для переезда от вокзала пришлось нанять не простое такси, поскольку в такси весь багаж не втиснулся. У вокзала подвернулся грузовичок со сговорчивым мужичком. Пусть без комфорта, зато не дорого дотряслись до временного жилища.
С устройством и с обживанием города пока мало что получалось. Контейнер, вроде, ещё не пришёл. То есть он, может быть, и пришёл, но когда Михлевич поехал на станцию, он ясного ответа не добился. Одно было ясно: их контейнер пока не могут найти. Заминка была и со школой сына. Надвигался сентябрь, пора найти школу, но как её выбрать, если неясно, где постоянный дом окажется. От Ольги совсем не было толку. Ей бы ходить по учреждениям, но ноги распухли и так тревожили, что она с трудом вставала с кровати. Она лишь раз съездила в город и ходила там, будто, инвалид, опираясь на плечи сына. На пляже, заполненном народом, она долго и с наслаждением лежала в тёплой воде. После такого услаждения отпали оставшиеся сомнения в выборе именно этого города.
Михлевич до пляжа не добрался, он под давлением Ольги и времени метался, осматривая дома, выставленные на продажу. Недвижимость была дороже белорусской, поэтому Михлевич не замахивался, искал дома по своим средствам. Неделя тем временем закончилась и аренду времянки пришлось продлить ещё на одну неделю. До того, как вторая неделя закончилась, Михлевич вошёл во времянку с лицом, по которому Ольга догадалась, что он нашёл что-то желаемое.
Это было маленькое строение с тремя комнатками и подвалом. Потолки были низкие до того, что Ольга, на цыпочки привстав, затылком коснулась потолка. Домик её никак не порадовал, и она бы отвергла его покупку, если б не то, что было снаружи.
Дом стоял посреди участка, разделённого на сад и огород. Над всем возвышалась большая шелковица, ветви которой были усыпаны белыми крупными сладкими ягодами. В плохо ухоженном саду росли с десяток фруктовых деревьев, на них ещё оставались не собранными айва, кизил, яблони, груши. Были и пара вишнёвых деревьев, но сезон для их ягод давно закончился. Позже в саду сын обнаружил дерево грецкого ореха. А по периметру, вдоль забора между улицей и соседями росли кусты малины и ежевики.
Огород был просторный, зарос сорняками, но именно он обрадовал Ольгу. Детство в деревне её научило выращивать овощи на огороде, а голод блокады приучил думать о том, чем кормиться завтра. «Если худо будет с продуктами, мы проживём на овощах», — думала Ольга, представляя, как она осваивает огород.
Как только они купили дом, пришло извещение о контейнере. При его разгрузке в нём оказалось немало покалеченных вещей, их вид навевал предположение, что контейнер не раз упал с высоты.
— Ещё переезд, — сказал Михлевич с лицом багровым от возмущения, — и ни черта у нас не останется. Лучше я сдохну, чем ещё раз куда-нибудь перееду.
«Переедешь, — подумала Ольга. — Я всё сделаю, чтоб переехал. Куда-угодно, хоть к чёртовой матери.»